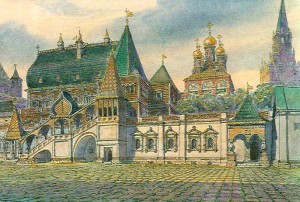 Завершая рассмотрение проблематики данной главы, следует сделать два основных вывода, важных для понимания дальнейшей логики развития русской общественно-государственной жизни и отечественной политической культуры.
Завершая рассмотрение проблематики данной главы, следует сделать два основных вывода, важных для понимания дальнейшей логики развития русской общественно-государственной жизни и отечественной политической культуры.
Первый вывод состоит в том, что московская общественно-государственная система обладала многими принципиальными достоинствами, ибо была рождена не из недр политической теории, а как бы самой жизнью, под влиянием православной веры, национальной русской духовности и обстоятельств тяжелой круговой борьбы нашего народа за его политическую независимость. Эффективно соединяя царское самодержавие и земское самоуправление, силы самоорганизованных нации и Церкви, зажимая бюрократический аппарат между надзором верховной власти и контролем земского общества (органически связанного с царской властью как общим православно-национальным сознанием верхов и низов, так и системой челобитных) Московская Русь успешно разрешила все основные вопросы своего политического бытия. Очевидно, при неэффективном общественно-государственном строе Россия не сумела бы разгромить исторических противников и распространить свое государственное пространство с 2 млн. 225 тыс. кв. км. в год смерти Ивана III (1505) до 15 млн. 500 тыс. кв. км. ко времени царствования Петра I.
Что же касается весьма распространенных в либеральной историографии представлений об особой жестокости русского самодержавия сравнительно с западной государственной практикой, то вряд ли эти оценочные суждения заслуживают серьезного отношения. Реальные факты свидетельствуют скорее об обратном. К примеру, если Иван Грозный за время опричного террора уничтожил 3 – 4 тыс. человек, то только за одну Варфоломеевскую ночь было убито более 3 тыс. гугенотов. Причем Грозный глубоко каялся даже за политически оправданное уничтожение противников самодержавия и сторонников боярской олигархии, всячески стремясь обеспечить их поминовение в церквах и монастырях, Папа же Римский благословил кровопролитие во Франции, иллюминировав Рим, а также велел выбить медаль для французского короля в честь этого кровавого события. В Англии времен Генриха VIII было повешено 72 тыс. соотечественников (согнанных с земли во время «огораживания») за бродяжничество, а в Нидерландах с 1547 по 1584 г. было убито испанцами до 1000 тыс. человек. В общем, в Европе времен Ивана Грозного, как подытоживает все вышеприведенные факты в одной из своих книг В.В. Кожинов, было казнено не менее 300-400 тысяч [1].
Осмысливая приведенные данные, мы должны понимать, что, в отличие королей плотно населенной Европы, где всегда оказывалось мало земель и много «лишних ртов», русские правители действовали в условиях обширных пространств и слабой плотности населения. Даже при грубых нравах эпохи они никак не могли позволить себе пренебрежения жизнью подданных и должны были всячески укреплять прямые связи верховной власти и нации. Православная же нравственная культура, объединявшая в Московской Руси верхи и низы, не только не способствовала жесткости политического строя, но, наоборот, смягчала бесчеловечные влияния времени и порождала известную неприязненностью к задачам волевой организации мира, требующей отчужденного принуждения людей. Трудно сомневаться, что довольно «женственные» качества терпеливости, смиренности, пассивной созерцательности стали в существенной мере традиционными национальными особенностями русского человека, при сравнительной слабости мужественных, интеллектуально-волевых начал в его складе характера и типе сознания.
Не случайно ни один царь в истории Русской Церкви на удостоился канонизации за свое государственное служение. Можно вести речь даже о недооценке начала власти и национально-государственного авторитета в русском традиционном сознании. Во всяком случае, осмысливая специфику древне-московского мировоззрения, М.Б. Плюханова в своем исследовании русской сакральной символики делает вывод, что мужественная греческая модель властного правителя и жизнеустроителя с крестом в правой руке вызвала сопротивление на Руси и не была по-настоящему усвоена. Соответственно, ни святость царского служения, ни византийский сакральный символ его – крест Константинов – не нашли себе места среди русских национально-православных святынь. Московское миросозерцание отличалось явственным неравновесием в почитании общераспространенных христианских символов. А именно, национальное целое было организовано в московскую эпоху преимущественно символами ограды, защиты. «Символы победы, активных мироустраивающих христианских сил или слабы, или оказывают какое-то непредусмотренное, искаженное воздействие» [2].
Поэтому весьма трудно согласиться с Г.П. Федотовым, считавшим Московское царство азиатской, нерусской формой нашей исторической жизни. Не жалея мрачных красок для описания духоты и азиатско-деспотического сумрака московского царства, утверждая, что весь процесс исторического развития России стал негативным антиподом западноевропейскому, идя от свободы к рабству, что народ, сознательно или бессознательно сделав выбор между национальным могуществом и свободой понес ответственность за свою дальнейшую судьбу [3], Федотов явно подменял субъективными эмоционально-этическими оценками непредвзятое исследование объективных слагаемых русского бытия. Гораздо ближе к истине оказываются слова И. А Ильина, сказавшего, что «тот, кто с открытым сердцем и честным разумением будет читать “скрижали” русской истории, тот поймет … рост русского государства совсем иначе. Надо установить и выговорить раз навсегда, что всякий другой народ, будучи в географическом и историческом положении русского народа, был бы вынужден идти тем же самым путем, хотя ни один из этих других народов, наверное, не проявил бы ни такого благодушия, ни такого терпения, ни такой братской терпимости, какие были проявлены на протяжении тысячелетнего развития русским народом» [4] . Выдающийся же православный мыслитель Н.П. Гиляров-Платонов со своей стороны глубоко верно сказал, что только поверхностный историк, сидя в уютном кабинете, может громить обвинениями бессердечие московского периода, забывая суровые обстоятельства времени и то, как растаяли в истории многие племена, не сумев скрепить себя силой духа и власти. «Мы не горное племя, – мудро писал Гиляров-Платонов, – у нас географической защиты нет; наша единственная оборона в нашем единодушии. Вот где наша сила. Представитель этой силы – царь; в нем народ и признает и ожидает хранителя своей личности. На нем потому преимущественно почиют и надежда и благожелания народные; в нем народ находит залог и ручательство своего политического бытия, как государства, и своего нравственного бытия, как народа» [5].
Таким образом, Православие и самодержавие явились важнейшими метаполическими, духовно организующими началами обеспечения культурной и политической самобытности русского народа, а через внутреннюю организацию русского национального ядра и всего огромного евразийского пространства, населенного многими народами с их различными культурными укладами. В условиях решения весьма универсальных евразийских цивилизационных задач национальное сознание и культура русских не могли сложиться в качестве сознания и культуры одного частного народа среди других частных национальных групп, но только как духовное самоопределение особой, самобытной, самодержавной нации между европейским и азиатским сообществами народов, соприкасающейся с тем и другим, но осуществляющей мировое христианское служение.
Второй вывод состоит в том, что при всей национальной укорененности и органичности московской системы место и роль в ней национально-общественного элемента не были достаточно ясно поняты и узаконены, равно как институт самодержавной верховной власти в его отношении к обществу. Данное обстоятельство придавало всему московскому общественно-государственному типу чисто обычный, стихийно-бытовой характер, мешая закреплению рожденных жизнью и народным инстинктом своеобразных форм сочетания централизма и автономии, авторитарности и общественной инициативы в русском политическом сознании, в российской исторической традиции. Очевидно, подобное невнимание к задачам мыслительного и правового оформления своего общественного бытия объясняется самой природой древнерусского патриархально-родового сознания, не получившего от Византии собственно социальных идей. Концепция же «симфонии», дав великороссам христиански выверенные принципы отношения государства и Церкви, отразила в своей дихотомичности конкретно-историческую ограниченность византийского социального опыта и государственного строя. А именно – отсутствие в Восточной Римской империи единого национально-общественного начала.
Недостаток органических социальных предпосылок государственной системы заставлял руководителей империи превращать Церковь в главную опору государственности и опускать вопрос о месте нации, общественного начала и национальной культуры в строении политическом. По верному замечанию Л. А. Тихомирова, император Константин опирался в своих преобразованиях на ту массу народа, которая называлась «сословием христиан». Но христиане не были народом в социальном и политическом смысле, а были Церковью. Это был союз не социальный, не национальный, но религиозный. «Думая о том, как приспособить к этому слою населения новое государство, Константин и другие преобразователи Рима думали невольно собственно о церковных запросах и приспособляли свое государственное дело к нуждам и законам не общественным, а церковным. Желая сообразоваться с духом христианства, они, однако, получали от него только идею верховной власти, правда, в высшей степени ценную, но никакой политической доктрины не могли получить, ибо ее не было в христианстве, как Церкви» [6] .
Объективно обусловленное ограничение внимания мыслителей и деятелей Византии лишь церковно-государственной проблематикой дополнялось с субъективной стороны еще и всецелой поглощенностью византийского сознания религиозно-догматической сферой в ущерб вопросам социальной жизни. Эта духовная ориентация обусловила то, что, глубоко разработав тему взаимосвязи власти духовной и мирской, византийская традиция не дала примеров широкого приложения греко-православной мысли к вопросам социальным, общественно-культурным и политическим. Россия, унаследовавшая от цивилизации-наставницы церковно-государственную идею, хотя и располагала достаточно сильным, жизнеспособным национально-общественным организмом, не имела должных навыков для разработки собственной социально-политической идеологии и не дерзала ввести в симфонию Церкви и государства еще и третий элемент – народность, которая бы таким образом заняла свое законное место органической основы государственной и церковной жизни.
Поскольку древнерусская мысль так и не восполнила византийское учение о «симфонии» самобытно осознанным народно-общественным элементом, последний, по сути дела, оказывался в тогдашней идеологии на полулегальном положении. Слабая осознанность же начала народности, сведение его роли то к функции церковности, то к функции государственности стесняли и искажали его собственное развитие. К концу Московского периода мы видим в сфере церковной жизни явное поползновение вытеснить живой народно-национальный элемент, внешне подчинить его церковно-бюрократическому началу (что ясно проявилось в реформах патриарха Никона). В области же государственного развития наблюдалось постепенное свертывание общественной самодеятельности и бюрократизация всего политического строения Московской Руси. В XVII в. бюрократия стала вытеснять аристократию в высшем управлении и земщину в низшем. Свертывание во второй половине этого столетия масштабов земского самоуправления явилось признаком общего ограничения роли народно-национального начала в государственном бытии.
[1] См.: Кожинов В.В. История Руси и русского Слова. (Опыт беспристрастного исследования). – М.: Алгоритм, 1999. С. 28
[2] Плюханова М. Сюжеты и символы Московского царства.– СПб.: Акрополь, 1995.С. 139.
[3] См.: Федотов Г. П. Россия и свобода // Федотов Г.П. Империя и свобода. Избранные статьи.– Нью-Йорк, 1989. С. 70-71, 73.
[4] Ильин И. А. Россия есть живой организм // Наши задачи. Том 1.– М.: Рарог, 1992. Т. 1. С. 233.
[5] Гиляров-Платонов Н.П. Вопросы веры и Церкви. Сборник статей. Т. 2. – М., 1906. С. 361.
[6] Тихомиров Л. А. Монархическая государственность. С. 147.
 Возрождение Державы информационно аналитический портал
Возрождение Державы информационно аналитический портал